
Экономические санкции, массовый уход и приостановка деятельности иностранных компаний, очереди за сахаром в России привели к сравнениям с другими тяжелыми временами в стране: с эпохой пустых полок в 1980-х, резкому росту цен в начале 1990-х и падению рубля после дефолта в августе 1998-го. NGS24.RU попросил красноярцев, бывших и действующих, поделиться воспоминаниями о тех временах.
Василий Прокушев, ресторанный обозреватель, автор блога «Завали едальник»
В 1998 году я совершил первую свою полностью самостоятельную поездку за границу. Тогда этой заграницей был Крым, и отправился я туда на обязательную для студента истфака археологическую практику. С собой мама дала 100 долларов, чего, даже учитывая плату за проживание в лагере, питание и расходы на портвейн, с лихвой должно было хватить на две недели.
Жили мы в бухте «Сиреневая» примерно в 150 километрах от Керчи. Спартанские условия скрашивало плещущееся в 20 метрах от палатки море и возможность раз в неделю выехать в Керчь за мясной пищей, холодными напитками и горячим кофе. Цены в Керчи были потешными. В первый же визит мы нашли женщину с приличным внутренним курсом и обменяли все доллары на рубли и немного гривен. 16 августа юные археологи, веселые и довольные, вернулись в бухту, а утром случился дефолт.
Наши рубли превратились в пыль. Денег едва хватило на еду и оплату лагеря. Перед посадкой в поезд общий бюджет красноярской экспедиции составил 16 рублей 50 копеек. Хватило на пачку сигарет «Ватра» и три брикета «Роллтона». Это на шесть человек и четырехдневную дорогу. Ехали без белья и почти без еды. По дороге удивлялись ценам в ларьках. До дому добрались еле живыми от голода.
Евгений Зиновьев, главный редактор
NGS24.
RU, ранее жил на Урале
Одно из самых сильных моих впечатлений от 80-х годов, от перестройки, от тотального дефицита, когда люди бились насмерть за колбасу, за сыр, я получил лет в девять-десять. Предполагаю, что это был год 1987–1988-й.
Мы с родителями поехали в Свердловск (сейчас — Екатеринбург). Купить каких-то продуктов в универсаме, который назывался «Мария», — сейчас на его месте большой ТРЦ «Гринвич». В этом универсаме меня родители поставили у стеночки и попросили подождать, пока они там пошуршат и всё купят. Я стою у стеночки, никого не трогаю. И в этот момент из подсобки продавщица выкатывает тележку с расфасованной колбасой.
То, что происходило после этого, напоминает мне нападение стаи пираний на какую-нибудь тушу мяса. С разных концов этого магазина толпа устремилась к тележке, бегом, расталкивая друг друга, сметая всё на своем пути. И я стоял как раз между этими несущимися людьми и этой тележкой. Меня бы, наверное, там затоптали, если бы не нашелся один мужчина, который тоже бежал в этой толпе, но, увидев меня, прижал к стенке, закрыл собой и закрывал, пока вся толпа не схлынула. Когда он меня отпустил, я увидел пустую тележку и помятую продавщицу, которая ее даже не успела докатить до витрины.
Я сейчас понимаю, что этот мужик если не жизнь мне спас, то, по крайней мере, кусочек здоровья точно. Колбасы ему не досталось.
***
В 1998 году я как раз начал работать, мне было 19 лет. Я пришел на свою первую работу, журналистом, в середине июля. У меня была довольно неплохая по тем меркам зарплата — 1500 рублей, притом что рабочие у нас в городе получали в среднем 900. То есть я зарабатывал больше многих взрослых людей. Ну, планировал зарабатывать.
У меня было четкое намерение: купить с первой зарплаты музыкальный центр. Я его присмотрел, я его очень хотел, я ходил в магазин мечтать о нем. И вот мне выплатили первую зарплату, на следующий день после дефолта. Когда я с этими деньгами пришел в магазин и увидел цены, то понял, что никакой музыкальный центр мне не светит. Это было жестокое разочарование, абсолютно жестокое.
Я купил себе диктофон, потому что на диктофон у меня хватало. Он стоил немногим дешевле, чем музыкальный центр стоил до дефолта. Этот диктофон, Olympus с микрокассетой, потом мне очень долго служил. Он до сих пор работает, и это мой своеобразный профессиональный талисман.
А музыкальный центр я так и не купил. Правда, через пару месяцев удалось накопить на магнитолу.

Сергей Мезенов, журналист, сейчас живет в Санкт-Петербурге
Как ребенок, отметивший свое десятилетие осенью 1989-го, я вполне помню разные апокалиптические картины конца 80-х. Например, рыбный универмаг «Океан» на улице Республики, занимавший целый первый этаж большой девятиэтажки, в котором не было ровным счетом ничего, кроме спинок минтая.
Или помню такой ритуал: мама идет с работы, занимает в магазине рядом с остановкой очередь, доходит до дома (до него идти минут пять-семь), берет кого-то из детей с собой, потому что товар отпускают в ограниченном количестве в одни руки, и успевает вернуться, когда ее очередь еще не закончилась.
В нашем семейном архиве хранятся несколько выпусков самодельной газеты, которую рисовали мои сестры (каждый выпуск имел форму разрисованного вручную тетрадного листка). В одном из них зафиксировано, как сестры вдвоем триумфально несут домой добытые в магазине упаковки пельменей.
Покупные, магазинные пельмени тогда были редкостью. Они были чудовищные, но за ними всё равно гонялись, потому что они экономили время. Я их себе класса со второго мог сам варить. Солил, правда, поначалу содой. Банки для всего сыпучего у нас были одинаковые. Я попробовал на вкус — солено вроде. Мама очень смеялась, когда я всё-таки спросил, мол, а должно так шипеть?
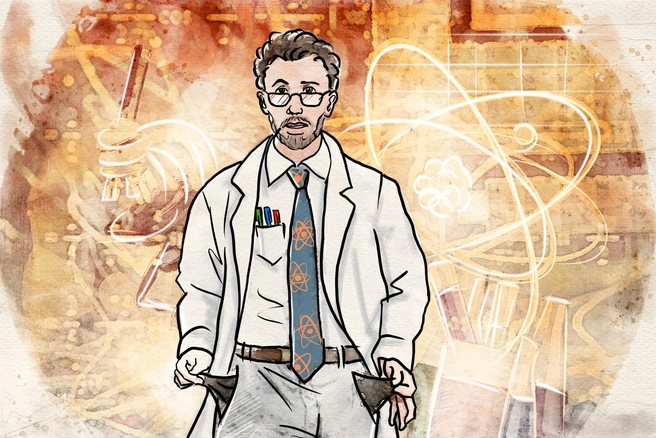
Елена, юрист
В 90-е мы жили в деревне. Мне было 10. Папа работал в частном леспромхозе и как-то зарплату не давали полгода, а мама работала кассиром в зоне. Бюджетникам зарплату давали, но мало или товарами. Я помню зарплату родителей, выданную корейской лапшой, яблоками или итальянскими сапогами. Помню переклички в очередях у сельского магазина, когда должны были привезти неизвестно что, но что-то, и дети с номерками на перекличку бегали среди дня и не дай бог забыть о ней.
Но в деревне были огород, животные, то есть мясо, молоко, яйца, масло — всё свое. А как город выживал, я не представляю.
Коллега моя в 1990-е жила в Канске. Она рассказывала, как на спичечном заводе, например, платили зарплату спичками. На тракторном или на каком-нибудь машинном заводе зарплату могли выдать одним прицепом сразу двоим работникам. И реализуйте его, как хотите. Когда давали зарплату, все ехали в Красноярск, говорит коллега. И за несколько километров до Красноярска начинались товарные ряды: работники шинного завода стоят с шинами, потом люди с ПЭТ-тарой. И там чаще всего всё превращалось в такой натуральный обмен.
Светлана Медведева, 65 лет
Дефолт я хорошо помню, как сейчас. У меня на счете было 90 тысяч рублей. По тем временам это было очень много. Деньги лежали на ремонт квартиры и мебель — мы хотели полностью поменять во всей квартире. Кухня стоила 20 тысяч, например.
Я вложила деньги на год под проценты, и заканчивался у меня депозит 20 августа 1998 года. Я была в банке за пару дней до этого. Люди там скупали доллары, то есть слух уже прошел о том, что скоро с деньгами будет непорядок. Но я решила: ну, у меня осталось два дня, не буду счет закрывать, потому что потеряю проценты.
Вышла из банка, посмотрела на табло. Доллар был по 5,68 или 5,98 рубля. И через два дня рубль обрушился. И на свои деньги я уже больше ничего не купила.
После дефолта выросла преступность. На дачах невозможно было ничего оставить. У нас грабили каждый сезон, вплоть до того, что выносили кружки, чашки и подушки. У моей коллеги четыре раза полностью выносили забор деревянный. Так что мы стали просто с дачи всё убирать и увозить.
Вообще 1990-е, пожалуй, нас сильно не коснулись, в 1980-е, наверное, было потяжелей. Тогда бабушка наша брала двух внучек подмышки, как кукол, и шла с ними в магазин за курицей, синей такой, ужасной. И вот с детьми она покупала три курицы, потому что давали тогда по одной в руки.
В 1990-е у меня муж был пилотом, летал в другие страны. Его ребята привозили из Турции куртки, сдавали перекупщикам на рынке, из Китая возили лекарства, травы, обувь, майки — да всё подряд. Мой перекупщикам не продавал, покупал для себя. Мы тут недавно продавали гараж, разбирали старые вещи — кучу всего из того времени выкинули.














